Россия, при активной поддержке США, взяла на себя права и обязанности СССР как члена ядерного клуба. Остальные республики, кто добровольно, кто под давлением США и России, согласились начать вывоз ядерного оружия в Россию, а в мае 1992 года был подписан Лиссабонский протокол – дополнение к договору СНВ-1, по которому Белоруссия, Украина и Казахстан обязывались стать безъядерными странами. Украина, однако, запросила за этот статус большую компенсацию и ратифицировала лиссабонские соглашения только в 1994 году. Россия осталась единственной ядерной державой среди бывших советских республик.
Что же касается обычных вооружений, то главный спор разгорелся между Россией и Украиной за статус Черноморского флота, главной базой которого всегда был крымский Севастополь. После августовского путча в Москве Украина, как и Россия, активизировала оформление своей полной независимости. В рамках этого процесса президент Леонид Кравчук заявил, что все вооружённые силы, размещённые на Украине, должны стать украинскими, в том числе и флот. Беловежские соглашения в декабре ситуацию не прояснили: новые государства СНГ получали свои вооружённые силы, однако создавалось и общее командование, под которое попадали стратегические силы. Относился ли к ним Черноморский флот, было неясно.
Уже к весне выяснилось, что и президент Кравчук, и президент Ельцин считают флот своим и не готовы им пожертвовать. В апреле в Киеве и в Москве оба президента подписали похожие указы, передававшие флот в подчинение министерств обороны соответственно Украины или России. С этих указов и началось затяжное противостояние, приведшее в конце концов к нынешней ситуации.
Заметим, что речь шла не о нефти или других экономически важных ресурсах и не о ядерном оружии. Чем же так важен оказался запертый Босфором в Чёрном море флот?
Для обеих сторон это был вопрос принципа. Украина видела этот флот своим просто по причине его размещения в украинском теперь Севастополе, кроме того, других военно-морских сил у неё не было вовсе, и статус морской державы мог быть обеспечен только таким образом.
Для Ельцина же (и в этом он оказался вполне солидарен со всё более оппозиционным ему Верховным советом) принцип был другим. Россия стала правопреемницей СССР, но легко можно было распространить это правопреемство и дальше в историю – Российской империи. Собственно, даже не флот оказался предметом спора, а Крым и, особенно, Севастополь – «гордость русских моряков», который никак не мог стать городом моряков неслыханной «географической новости» – Украины.
В российской прессе и даже в Верховном совете стали поминать недобрым словом Никиту Сергеевича Хрущёва, передавшего в 1954 году советский Крым от РСФСР – УССР. А то обстоятельство, что большинство жителей Крыма говорило по-русски, позволяло российским депутатам требовать пересмотра государственного статуса Крыма, невзирая на Беловежские соглашения, провозглашавшие границы стран СНГ хоть и прозрачными, но нерушимыми.
Прямо поддержать идею «Крым – русский» придумавший интернациональное слово «россияне» и признавший украинские границы Ельцин не мог. Но, если в дальнейших событиях одними из его главных противников окажутся именно патриоты-державники, обвинявшие его в развале «могучего» СССР, то это вовсе не означало никакого иммунитета Ельцина к очень понятным всякому русскому мифам о «славе русского оружия». А Севастополь был воплощением этой славы.
Миф Севастополя вообще является прекрасной иллюстрацией того, что хорошей пропаганде всё равно в чём черпать своё вдохновение: при дефиците побед она может приучить людей гордится и поражениями. С момента своего основания в 1783 году, Севастополь всерьёз осаждали дважды: в Крымскую войну и в начале Великой Отечественной. И оба раза противнику удалось его взять. Однако в советской и российской пропаганде его упорно называли и называют «неприступным».
В настоящее время Севастополь не имеет никакого серьёзного военного значения: у флота, запертого НАТО в Черном море нет ни малейшей возможности для стратегического манёвра, а перемещения на пару сотен километров от берега (до Турции – триста километров) практически бессмысленны с учётом дальности и скорости современных авиации и ракет.
При наличии военно-морских баз в Румынии, Болгарии, Турции и при дружественных Грузии и Украине у НАТО нет и не может быть никакого интереса к Севастополю. Но российская пропаганда упорно доказывает, что если бы там не было российских солдат, то там были бы солдаты НАТО…
Севастополь имел значение в XVIII-XIX веках – как плацдарм для морской атаки на Константинополь, начиная с «Греческого проекта» Екатерины Великой и продолжая проектами всех её последователей. Но с учётом современного положения дел роль Севастополя как военного порта стала бессмысленной. Однако абсурдность севастопольского мифа не помешала сначала Ельцину, а потом и Путину, продолжать вбухивать в Севастопольскую военно-морскую базу и в Черноморский флот огромные деньги и всячески при этом себя нахваливать за «отстаивание геополитических интересов России».
Справедливости ради нужно сказать, что в 1992 году ни Ельцин, ни Кравчук не могли позволить себе сосредоточиться исключительно на воинской славе и имперских мифах. Дело было даже не в маловероятном тогда военном конфликте между ними за Крым, а в ограниченных экономических возможностях содержать Черноморский флот. Поэтому пришлось так или иначе договариваться.
Встретившись в Дагомысе, а затем в Ялте, президенты договорились поделить флот позже, оставив его пока под общим командованием. Таким образом российское присутствие в Севастополе стало легитимным. Но раздел флота всё же начался, причем стихийно: часть кораблей стояла на рейде Севастополя без каких бы то ни было флагов, а на части флаги поднимали сами экипажи: кто-то жёлто-синий, а кто-то возрождённый андреевский.
Однако не крымская тематика была в центре ельцинского внимания. Сделавшись президентом независимой России, он настойчиво искал дружбы с бывшим главным стратегическим противником СССР – с США, тем более что дружба эта была для России жизненно необходима, хотя бы из соображений экономического выживания.
Практически весь 1992 год, особенно его первую половину, в международных делах Ельцина волновали прежде всего вопросы гуманитарной помощи России. Достаточно изучить график его встреч и телефонных переговоров с западными лидерами и ознакомится с темами, которые там обсуждались, чтобы в этом убедиться.
30 января 1992 года Ельцин отправился на неделю в Америку на встречу с Джорджем Бушем, которого он называл теперь не иначе как своим другом. На встрече в Кемп-Дэвиде Ельцин торжественно объявил, что суверенная Россия не считает США своим потенциальным противником, и российское ядерное оружие не нацелено больше на американские города и военные объекты. Холодная война была официально объявлена оконченной, а друзья договорились о взаимных официальных визитах на ближайшее время.
Но главным для Ельцина было другое: «В частности, мы обсудили экономическую реформу в России, равно как и вопросы сотрудничества и помощи с тем, чтобы эта реформа не задохнулась». Хотя российский президент утверждал: «Я приехал сюда не с протянутой рукой, чтобы просить помощь», именно этим он и занимался, пугая Буша возобновлением Холодной войны в случае провала его реформ. Во время нового – государственного – визита в июне он выскажется образнее и точнее: «Сегодня свободу Америки защищают в России. Если реформы провалятся, это обойдется в сотни миллиардов».
США и Запад в целом (особенно – Германия) и до этого оказывали СССР гуманитарную помощь, прежде всего – продовольствием. Так в 1991 году только США поставили в СССР более 300 тысяч тонн продовольствия.
Так и в этот раз, в ответ на призыв Ельцина, администрация Буша с помощью военно-транспортной авиации США начала гуманитарную операцию «Provide Hope». Всего США в 1992 году разными способами поставили в Россию ещё около 300 тысяч тонн продовольствия. До сих пор в России помнят «ножки Буша» – куриные окорочка, которые помогли решить проблему голода.
Общая гуманитарная помощь США России в течении 90-х годов составила около 11 миллиардов долларов. В целом же, гуманитарная помощь Запада ельцинской России никогда не оценивалась, но, видимо, составила примерно 20 миллиардов. Это была и продовольственная помощь, и гранты на поддержку рыночных реформ, и многие другие формы поддержки, в том числе в сфере образования.
Сегодня, по традиции, которой уже больше ста лет, Россия либо отрицает сам факт такой помощи, либо считает её мелкой, унизительной подачкой, которая ничего не решала. Что ж, такова видимо наша российская привычка: всех упрекать в неблагодарности, но самим никогда её ни к кому не испытывать. Есть в этом даже что-то по-детски трогательное: так подростки не любят говорить «спасибо», видя в этом унижение своего достоинства…
Параллельно с дискуссиями о Севастополе и Крыме и налаживанием отношений с Западом в целом и с США в частности, шли не менее важные и более потенциально опасные дискуссии о принадлежности Чечни, Татарии, Башкирии и других национальных автономий входивших в состав России.
Ещё до ликвидации СССР, в рамках начавшегося парада суверенитетов союзных республик, национальный сепаратизм появился и в автономных республиках РСФСР. Требования 1990-1991 годов по большей части сводились к непосредственному членству этих автономий в СССР, минуя российскую федерацию. Такие же требования предъявлялись и при участии автономий в «ново-огарёвском процессе». Окончательное уничтожение СССР в декабре 1991 года изменило направление требований. Речь в ряде автономий пошла о полной независимости.
Что же касается обычных вооружений, то главный спор разгорелся между Россией и Украиной за статус Черноморского флота, главной базой которого всегда был крымский Севастополь. После августовского путча в Москве Украина, как и Россия, активизировала оформление своей полной независимости. В рамках этого процесса президент Леонид Кравчук заявил, что все вооружённые силы, размещённые на Украине, должны стать украинскими, в том числе и флот. Беловежские соглашения в декабре ситуацию не прояснили: новые государства СНГ получали свои вооружённые силы, однако создавалось и общее командование, под которое попадали стратегические силы. Относился ли к ним Черноморский флот, было неясно.
Уже к весне выяснилось, что и президент Кравчук, и президент Ельцин считают флот своим и не готовы им пожертвовать. В апреле в Киеве и в Москве оба президента подписали похожие указы, передававшие флот в подчинение министерств обороны соответственно Украины или России. С этих указов и началось затяжное противостояние, приведшее в конце концов к нынешней ситуации.
Заметим, что речь шла не о нефти или других экономически важных ресурсах и не о ядерном оружии. Чем же так важен оказался запертый Босфором в Чёрном море флот?
Для обеих сторон это был вопрос принципа. Украина видела этот флот своим просто по причине его размещения в украинском теперь Севастополе, кроме того, других военно-морских сил у неё не было вовсе, и статус морской державы мог быть обеспечен только таким образом.
Для Ельцина же (и в этом он оказался вполне солидарен со всё более оппозиционным ему Верховным советом) принцип был другим. Россия стала правопреемницей СССР, но легко можно было распространить это правопреемство и дальше в историю – Российской империи. Собственно, даже не флот оказался предметом спора, а Крым и, особенно, Севастополь – «гордость русских моряков», который никак не мог стать городом моряков неслыханной «географической новости» – Украины.
В российской прессе и даже в Верховном совете стали поминать недобрым словом Никиту Сергеевича Хрущёва, передавшего в 1954 году советский Крым от РСФСР – УССР. А то обстоятельство, что большинство жителей Крыма говорило по-русски, позволяло российским депутатам требовать пересмотра государственного статуса Крыма, невзирая на Беловежские соглашения, провозглашавшие границы стран СНГ хоть и прозрачными, но нерушимыми.
Прямо поддержать идею «Крым – русский» придумавший интернациональное слово «россияне» и признавший украинские границы Ельцин не мог. Но, если в дальнейших событиях одними из его главных противников окажутся именно патриоты-державники, обвинявшие его в развале «могучего» СССР, то это вовсе не означало никакого иммунитета Ельцина к очень понятным всякому русскому мифам о «славе русского оружия». А Севастополь был воплощением этой славы.
Миф Севастополя вообще является прекрасной иллюстрацией того, что хорошей пропаганде всё равно в чём черпать своё вдохновение: при дефиците побед она может приучить людей гордится и поражениями. С момента своего основания в 1783 году, Севастополь всерьёз осаждали дважды: в Крымскую войну и в начале Великой Отечественной. И оба раза противнику удалось его взять. Однако в советской и российской пропаганде его упорно называли и называют «неприступным».
В настоящее время Севастополь не имеет никакого серьёзного военного значения: у флота, запертого НАТО в Черном море нет ни малейшей возможности для стратегического манёвра, а перемещения на пару сотен километров от берега (до Турции – триста километров) практически бессмысленны с учётом дальности и скорости современных авиации и ракет.
При наличии военно-морских баз в Румынии, Болгарии, Турции и при дружественных Грузии и Украине у НАТО нет и не может быть никакого интереса к Севастополю. Но российская пропаганда упорно доказывает, что если бы там не было российских солдат, то там были бы солдаты НАТО…
Севастополь имел значение в XVIII-XIX веках – как плацдарм для морской атаки на Константинополь, начиная с «Греческого проекта» Екатерины Великой и продолжая проектами всех её последователей. Но с учётом современного положения дел роль Севастополя как военного порта стала бессмысленной. Однако абсурдность севастопольского мифа не помешала сначала Ельцину, а потом и Путину, продолжать вбухивать в Севастопольскую военно-морскую базу и в Черноморский флот огромные деньги и всячески при этом себя нахваливать за «отстаивание геополитических интересов России».
Справедливости ради нужно сказать, что в 1992 году ни Ельцин, ни Кравчук не могли позволить себе сосредоточиться исключительно на воинской славе и имперских мифах. Дело было даже не в маловероятном тогда военном конфликте между ними за Крым, а в ограниченных экономических возможностях содержать Черноморский флот. Поэтому пришлось так или иначе договариваться.
Встретившись в Дагомысе, а затем в Ялте, президенты договорились поделить флот позже, оставив его пока под общим командованием. Таким образом российское присутствие в Севастополе стало легитимным. Но раздел флота всё же начался, причем стихийно: часть кораблей стояла на рейде Севастополя без каких бы то ни было флагов, а на части флаги поднимали сами экипажи: кто-то жёлто-синий, а кто-то возрождённый андреевский.
Однако не крымская тематика была в центре ельцинского внимания. Сделавшись президентом независимой России, он настойчиво искал дружбы с бывшим главным стратегическим противником СССР – с США, тем более что дружба эта была для России жизненно необходима, хотя бы из соображений экономического выживания.
Практически весь 1992 год, особенно его первую половину, в международных делах Ельцина волновали прежде всего вопросы гуманитарной помощи России. Достаточно изучить график его встреч и телефонных переговоров с западными лидерами и ознакомится с темами, которые там обсуждались, чтобы в этом убедиться.
30 января 1992 года Ельцин отправился на неделю в Америку на встречу с Джорджем Бушем, которого он называл теперь не иначе как своим другом. На встрече в Кемп-Дэвиде Ельцин торжественно объявил, что суверенная Россия не считает США своим потенциальным противником, и российское ядерное оружие не нацелено больше на американские города и военные объекты. Холодная война была официально объявлена оконченной, а друзья договорились о взаимных официальных визитах на ближайшее время.
Но главным для Ельцина было другое: «В частности, мы обсудили экономическую реформу в России, равно как и вопросы сотрудничества и помощи с тем, чтобы эта реформа не задохнулась». Хотя российский президент утверждал: «Я приехал сюда не с протянутой рукой, чтобы просить помощь», именно этим он и занимался, пугая Буша возобновлением Холодной войны в случае провала его реформ. Во время нового – государственного – визита в июне он выскажется образнее и точнее: «Сегодня свободу Америки защищают в России. Если реформы провалятся, это обойдется в сотни миллиардов».
США и Запад в целом (особенно – Германия) и до этого оказывали СССР гуманитарную помощь, прежде всего – продовольствием. Так в 1991 году только США поставили в СССР более 300 тысяч тонн продовольствия.
Так и в этот раз, в ответ на призыв Ельцина, администрация Буша с помощью военно-транспортной авиации США начала гуманитарную операцию «Provide Hope». Всего США в 1992 году разными способами поставили в Россию ещё около 300 тысяч тонн продовольствия. До сих пор в России помнят «ножки Буша» – куриные окорочка, которые помогли решить проблему голода.
Общая гуманитарная помощь США России в течении 90-х годов составила около 11 миллиардов долларов. В целом же, гуманитарная помощь Запада ельцинской России никогда не оценивалась, но, видимо, составила примерно 20 миллиардов. Это была и продовольственная помощь, и гранты на поддержку рыночных реформ, и многие другие формы поддержки, в том числе в сфере образования.
Сегодня, по традиции, которой уже больше ста лет, Россия либо отрицает сам факт такой помощи, либо считает её мелкой, унизительной подачкой, которая ничего не решала. Что ж, такова видимо наша российская привычка: всех упрекать в неблагодарности, но самим никогда её ни к кому не испытывать. Есть в этом даже что-то по-детски трогательное: так подростки не любят говорить «спасибо», видя в этом унижение своего достоинства…
Параллельно с дискуссиями о Севастополе и Крыме и налаживанием отношений с Западом в целом и с США в частности, шли не менее важные и более потенциально опасные дискуссии о принадлежности Чечни, Татарии, Башкирии и других национальных автономий входивших в состав России.
Ещё до ликвидации СССР, в рамках начавшегося парада суверенитетов союзных республик, национальный сепаратизм появился и в автономных республиках РСФСР. Требования 1990-1991 годов по большей части сводились к непосредственному членству этих автономий в СССР, минуя российскую федерацию. Такие же требования предъявлялись и при участии автономий в «ново-огарёвском процессе». Окончательное уничтожение СССР в декабре 1991 года изменило направление требований. Речь в ряде автономий пошла о полной независимости.
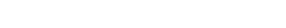


Коментар