Если в 1990 году Ельцин, подчёркивая свою приверженность демократии и неприятие союзных (советских) властей, громогласно заявлял в Уфе: «возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить», то теперь он должен был и сам так разделить власть с автономиями, чтобы это не привело к их полному отделению от России. Ельцин был глубоко убеждён, что Российская Федерация ни в каком случае не должна повторить судьбу Союза.
Но сохранить Россию единой было сложно. И хотя большая часть национальных автономий удовлетворилась самоуправлением, финансированием развития национальных школ, языка и культуры, официальным переименованием и некоторым пересмотром своего экономического и налогового положения, некоторые из них продолжали требовать независимости – Чечня, Татария, Башкирия и даже Карелия (знакомая Ельцину по XIX конференции КПСС в 1988 году).
Нужно признать, что в тот сложный момент Ельцин сделал невозможное: несмотря на все трудности, 31 марта 1992 года он организовал подписание федеративного договора, то есть договоров о разделении полномочий центральной власти отдельно с суверенными республиками (бывшими автономными), отдельно с краями и областями и отдельно с автономными областями и округами. В Российской Федерации ему удалось добиться от субъектов того, что не удалось Горбачёву в СССР.
Сейчас многие говорят, что Путин в начале 2000-х годов спас страну от развала. Даже Анатолий Чубайс, прекрасно зная, что это не так, поддакивает кремлёвским сказочникам и повторяет эту чушь. Правда же состоит в том, что этот вопрос, за несколькими исключениями, фактически был закрыт уже в 1992 году.
Только две республики отказались подписать договор – Чечня и Татария (которую теперь следовало называть Татарстаном). Президент последней Минтимер Шаймиев за десять дней до подписания федеративного договора устроил в республике референдум, по результатам которого Татарстан должен был отныне существовать как «суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров».
Переговоры Ельцина с Шаймиевым растянулись после этого на два года, и только в 1994 году с Татарстаном был подписан отдельный договор, разграничивавший полномочия между Казанью и Москвой и дававший республике самое широкое самоуправление и полное распоряжение ресурсами. Договор этот будет изменён в 2007 году и отменён в 2017.
Но фактически с самого начала Татарстан как был, так и остался частью России, имея в реальности полномочий ничуть не больше, чем любая другая автономия, вроде Башкирии, Якутии или Бурятии. На это была одна очень важная причина, которую хорошо понимал Виктор Степанович Черномырдин, но в тот момент не понимали ни Ельцин, ни Гайдар.
Дело в том, что экономической основной предполагаемого суверенитета Татарстана могла стать только добываемая там нефть. Вся остальная экономика Татарстана была настолько глубоко интегрирована в российскую, что ни о каком отделении на этой основе не могло быть и речи. Но в татарской нефти много серы. И ещё со времен СССР власти смешивали высококачественную низкосернистую нефть из Западной Сибири (международное название «Siberian Light») с низкокачественной татарской и получалась советская экспортная смесь «Urals», которая торговалась с дисконтом к международному стандарту североморской нефти «Brent» (в то время как нефть «Siberian Light», продавайся она без добавления татарской нефти, торговалась бы практически без дисконта). На этом терялись огромные деньги, но идеологические установки дружбы народов в СССР заставляли фактически субсидировать татарских нефтяников за счёт их коллег из Западной Сибири.
Если предположить, что Татарстан стал бы независимым государством, то для того, чтобы отключить его от экспортного нефтепровода были бы все основания. Либо он должен был бы компенсировать те потери, которые несли нефтедобывающие компании России в связи с тем, что они должны были смешивать свою нефть с татарской, а такие компенсации сразу делали бы татарский экспорт убыточным. Особенно при тех ценах на нефть, которые держались все 90-е годы.
Как только казанских вождей поставили перед этим фактом, вся их сепаратистская риторика сразу пошла на убыль, и фактически уже к середине 90-х тема была закрыта. Поэтому нынешние рассказы про агрессивный татарский сепаратизм 90-х – не более чем раздувание не существовавшей в реальности угрозы и пропагандистская выдумка в общем русле демонизации и вульгаризации ельцинского периода российской истории.
Позже спорадические всплески сепаратизма ещё случались – в виде Уральской республики Эдуарда Росселя и Дальневосточной республики Евгения Наздратенко. Но Ельцин быстро купировал их жёсткими кадровыми решениями, и для других региональных лидеров эти казусы стали скорее антирекламой сепаратизму, чем притягательным примером.
Особняком в процессе выстраивания новой России стоит история взаимоотношений с Чечнёй. С сентября 1991 года статус Чечни, отделившейся от Ингушетии и категорически настаивавшей на полной своей независимости, оставался неопределённым. Новый президент новой республики Ичкерия Джохар Дудаев, провозгласив независимость, упорно настаивал на полном суверенитете своей республики и о каком-либо варианте вхождения в состав Российской Федерации вести переговоры решительно не хотел.
События развивались следующим образом. Как мы писали раньше, после разгона 6 сентября 1991 года Верховного Совета Чечено-Ингушской (ЧИ) АССР власть в республике захватил Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН) во главе с генералом авиации Джохаром Дудаевым. Во время этих событий по меньшей мере один человек погиб: мэра Грозного Юрия Куценко выбросили из окна. Много людей получили серьёзные травмы.
Буквально через пару дней в Грозный вылетел Геннадий Бурбулис. Он пробыл там три дня и непрерывно разговаривал с Дудаевым. В какой-то момент он спросил Дудаева: «А не могли бы мы поговорить тет-а-тет, без постоянного присутствия вашей многочисленной вооруженной до зубов охраны? Разве вы меня боитесь?»
Попытка сыграть на самолюбии горца не сработала: Дудаев никак не ответил на его предложение. Видимо, даже этот вопрос Дудаев не мог решить самостоятельно и должен был обсудить его со своими коллегами. Только после этих консультаций на следующее утро они встретились вдвоём, и никого рядом не было.
Сначала разговор шёл обычным порядком: Бурбулис, как и на всех предыдущих их встречах, предлагал какие-то взаимоприемлемые варианты интеграции для Чечни и России, а Дудаев отказывался обсуждать что-либо кроме полной независимости Чечни. В какой-то момент Дудаев вполголоса сказал Бурбулису: «Мне очень нужна личная встреча с Ельциным».
И дальше, как ни в чем ни бывало, он продолжил разговор в прежнем русле. Бурбулис утверждает, что Дудаев всем своим видом дал ему понять, что эта встреча с Ельциным для него критически важна, и что после неё всё может сильно измениться в лучшую для всех сторону.
По возвращении в Москву Бурбулис в узком кругу рассказал о своём визите в Грозный. Больше всех против встречи Ельцина с Дудаевым выступал Руслан Хасбулатов, и уже 15 сентября Хасбулатов сам отправился в Грозный во главе спешно организованной им делегации Верховного совета России и предпринял попытку самостоятельно найти компромисс.
Хасбулатов в 1990 году был выбран на съезд народных депутатов РСФСР от Чечено-Ингушской АССР и слыл в Москве человеком, в Чечне очень авторитетным. Скорее всего, он и сам считал себя таковым и был уверен, что сумеет разрешить эту конфликтную ситуацию.
Тут важно заметить, что другим народным депутатом РСФСР от ЧИ АССР был первый секретарь чечено-ингушского обкома КПСС Доку Гапурович Завгаев. Который, параллельно со всеми своими должностями, был ещё и депутатом Верховного Совета ЧИ АССР и, разумеется, его председателем.
Именно Завгаева Дудаев и прогнал 6 сентября. Разумеется, когда делегация во главе с Хасбулатовым прибыла в Грозный, то, предполагая, что Хасбулатова и Завгаева связывают какие-то отношения, Дудаев не мог воспринять приехавших иначе, как московский десант в защиту Завгаева.
Но сохранить Россию единой было сложно. И хотя большая часть национальных автономий удовлетворилась самоуправлением, финансированием развития национальных школ, языка и культуры, официальным переименованием и некоторым пересмотром своего экономического и налогового положения, некоторые из них продолжали требовать независимости – Чечня, Татария, Башкирия и даже Карелия (знакомая Ельцину по XIX конференции КПСС в 1988 году).
Нужно признать, что в тот сложный момент Ельцин сделал невозможное: несмотря на все трудности, 31 марта 1992 года он организовал подписание федеративного договора, то есть договоров о разделении полномочий центральной власти отдельно с суверенными республиками (бывшими автономными), отдельно с краями и областями и отдельно с автономными областями и округами. В Российской Федерации ему удалось добиться от субъектов того, что не удалось Горбачёву в СССР.
Сейчас многие говорят, что Путин в начале 2000-х годов спас страну от развала. Даже Анатолий Чубайс, прекрасно зная, что это не так, поддакивает кремлёвским сказочникам и повторяет эту чушь. Правда же состоит в том, что этот вопрос, за несколькими исключениями, фактически был закрыт уже в 1992 году.
Только две республики отказались подписать договор – Чечня и Татария (которую теперь следовало называть Татарстаном). Президент последней Минтимер Шаймиев за десять дней до подписания федеративного договора устроил в республике референдум, по результатам которого Татарстан должен был отныне существовать как «суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров».
Переговоры Ельцина с Шаймиевым растянулись после этого на два года, и только в 1994 году с Татарстаном был подписан отдельный договор, разграничивавший полномочия между Казанью и Москвой и дававший республике самое широкое самоуправление и полное распоряжение ресурсами. Договор этот будет изменён в 2007 году и отменён в 2017.
Но фактически с самого начала Татарстан как был, так и остался частью России, имея в реальности полномочий ничуть не больше, чем любая другая автономия, вроде Башкирии, Якутии или Бурятии. На это была одна очень важная причина, которую хорошо понимал Виктор Степанович Черномырдин, но в тот момент не понимали ни Ельцин, ни Гайдар.
Дело в том, что экономической основной предполагаемого суверенитета Татарстана могла стать только добываемая там нефть. Вся остальная экономика Татарстана была настолько глубоко интегрирована в российскую, что ни о каком отделении на этой основе не могло быть и речи. Но в татарской нефти много серы. И ещё со времен СССР власти смешивали высококачественную низкосернистую нефть из Западной Сибири (международное название «Siberian Light») с низкокачественной татарской и получалась советская экспортная смесь «Urals», которая торговалась с дисконтом к международному стандарту североморской нефти «Brent» (в то время как нефть «Siberian Light», продавайся она без добавления татарской нефти, торговалась бы практически без дисконта). На этом терялись огромные деньги, но идеологические установки дружбы народов в СССР заставляли фактически субсидировать татарских нефтяников за счёт их коллег из Западной Сибири.
Если предположить, что Татарстан стал бы независимым государством, то для того, чтобы отключить его от экспортного нефтепровода были бы все основания. Либо он должен был бы компенсировать те потери, которые несли нефтедобывающие компании России в связи с тем, что они должны были смешивать свою нефть с татарской, а такие компенсации сразу делали бы татарский экспорт убыточным. Особенно при тех ценах на нефть, которые держались все 90-е годы.
Как только казанских вождей поставили перед этим фактом, вся их сепаратистская риторика сразу пошла на убыль, и фактически уже к середине 90-х тема была закрыта. Поэтому нынешние рассказы про агрессивный татарский сепаратизм 90-х – не более чем раздувание не существовавшей в реальности угрозы и пропагандистская выдумка в общем русле демонизации и вульгаризации ельцинского периода российской истории.
Позже спорадические всплески сепаратизма ещё случались – в виде Уральской республики Эдуарда Росселя и Дальневосточной республики Евгения Наздратенко. Но Ельцин быстро купировал их жёсткими кадровыми решениями, и для других региональных лидеров эти казусы стали скорее антирекламой сепаратизму, чем притягательным примером.
Особняком в процессе выстраивания новой России стоит история взаимоотношений с Чечнёй. С сентября 1991 года статус Чечни, отделившейся от Ингушетии и категорически настаивавшей на полной своей независимости, оставался неопределённым. Новый президент новой республики Ичкерия Джохар Дудаев, провозгласив независимость, упорно настаивал на полном суверенитете своей республики и о каком-либо варианте вхождения в состав Российской Федерации вести переговоры решительно не хотел.
События развивались следующим образом. Как мы писали раньше, после разгона 6 сентября 1991 года Верховного Совета Чечено-Ингушской (ЧИ) АССР власть в республике захватил Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН) во главе с генералом авиации Джохаром Дудаевым. Во время этих событий по меньшей мере один человек погиб: мэра Грозного Юрия Куценко выбросили из окна. Много людей получили серьёзные травмы.
Буквально через пару дней в Грозный вылетел Геннадий Бурбулис. Он пробыл там три дня и непрерывно разговаривал с Дудаевым. В какой-то момент он спросил Дудаева: «А не могли бы мы поговорить тет-а-тет, без постоянного присутствия вашей многочисленной вооруженной до зубов охраны? Разве вы меня боитесь?»
Попытка сыграть на самолюбии горца не сработала: Дудаев никак не ответил на его предложение. Видимо, даже этот вопрос Дудаев не мог решить самостоятельно и должен был обсудить его со своими коллегами. Только после этих консультаций на следующее утро они встретились вдвоём, и никого рядом не было.
Сначала разговор шёл обычным порядком: Бурбулис, как и на всех предыдущих их встречах, предлагал какие-то взаимоприемлемые варианты интеграции для Чечни и России, а Дудаев отказывался обсуждать что-либо кроме полной независимости Чечни. В какой-то момент Дудаев вполголоса сказал Бурбулису: «Мне очень нужна личная встреча с Ельциным».
И дальше, как ни в чем ни бывало, он продолжил разговор в прежнем русле. Бурбулис утверждает, что Дудаев всем своим видом дал ему понять, что эта встреча с Ельциным для него критически важна, и что после неё всё может сильно измениться в лучшую для всех сторону.
По возвращении в Москву Бурбулис в узком кругу рассказал о своём визите в Грозный. Больше всех против встречи Ельцина с Дудаевым выступал Руслан Хасбулатов, и уже 15 сентября Хасбулатов сам отправился в Грозный во главе спешно организованной им делегации Верховного совета России и предпринял попытку самостоятельно найти компромисс.
Хасбулатов в 1990 году был выбран на съезд народных депутатов РСФСР от Чечено-Ингушской АССР и слыл в Москве человеком, в Чечне очень авторитетным. Скорее всего, он и сам считал себя таковым и был уверен, что сумеет разрешить эту конфликтную ситуацию.
Тут важно заметить, что другим народным депутатом РСФСР от ЧИ АССР был первый секретарь чечено-ингушского обкома КПСС Доку Гапурович Завгаев. Который, параллельно со всеми своими должностями, был ещё и депутатом Верховного Совета ЧИ АССР и, разумеется, его председателем.
Именно Завгаева Дудаев и прогнал 6 сентября. Разумеется, когда делегация во главе с Хасбулатовым прибыла в Грозный, то, предполагая, что Хасбулатова и Завгаева связывают какие-то отношения, Дудаев не мог воспринять приехавших иначе, как московский десант в защиту Завгаева.
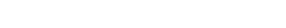


Коментар