Кох Альфред
12 декември 2021 г.
Живая книга о Ельцине
Глава 7. Елцин. Реформи, част 1
...
Люди смотрели на окружавшую их жизнь, на нищету, безработицу, на криминальную статистику, анализировали экономические показатели, на своей шкуре чувствовали всю тяжесть кризиса, но при этом как-то считалось, что это всё понарошку, несерьёзно, что резервы нескончаемы и что просто «начальники плохие», а страна – по-прежнему великая и могучая. Нация и ее элита не отрефлексировали своё поражение и не артикулировали его. Напротив, видели себя победителями коммунизма. По умолчанию ситуация оценивалась где-то на промежутке между «досадным недоразумением» и «временными трудностями».
Как-то само собой подразумевалось, что, фактически ополовинив население и территорию, люди по-прежнему живут всё в том же СССР, который просто сменил вывеску. И что страна, как неразменный пятак, ополовинившись, отнюдь не стала меньше и слабее. И если эта ополовиненная страна не в состоянии была удовлетворить их амбиции и запросы, то вовсе не потому, что она стала меньше и слабее, а потому, что «начальники воруют».
А сами начальники, в свою очередь, были убеждены, что этой новой стране за каким-то чёртом нужны были все эти стратегические ядерные подводные лодки и крейсера, ракеты и бомбардировщики, и что без них совсем никак невозможно. Солдаты великой армии умирали с голоду в своих казармах (например, на острове Русский) и зарабатывали на еду проституцией (описан случай, когда солдаты предлагали свои услуги прямо на Красной площади), но никому в голову даже не пришла мысль: а зачем нищей стране нужна такая дорогая армия, обслуживавшая абсолютно бессмысленные амбиции?
И когда для того, чтобы получить место в Совете Безопасности ООН, понадобилось весь внешний долг СССР взвалить на одну Россию, российская власть не задумываясь это сделала, хотя в этот же самый момент оставила без компенсаций собственный народ, у которого прежние власти украли все сбережения.
В стране не оказалось ни одной политической силы, которая предложила хотя бы обсудить целесообразность этого шага, настолько очевидной казалась всем необходимость заседать в Совбезе ООН по сравнению с какими-то вкладами граждан в сберкассах… Разумеется, Ельцин, как всякий великоросс, был апологетом этого мифа. Он с ним вырос, он был для него органичен, другой роли для России он не представлял, а сам себя видел, конечно же, правителем только такой великой и могучей России, которую «все бояться и уважают».
Когда мы в дальнейшем будем обсуждать ход реформ, нужно всё время держать в голове это обстоятельство. Скорее всего, путь к успешной модернизации страны лежал через искреннее осознание народом полной идейной, институциональной и экономической катастрофы прежнего государственного строя. Как это было, например, в послевоенных Японии и Германии.
И задача новой элиты как раз и состояла в том, чтобы открыть народу глаза на реальное положение вещей. Но особенность того периода отечественной истории была в том, что такого осознания не произошло, за редким исключением, даже внутри элиты. И, следовательно, такая картина мира не стала мейнстримом.
Напротив, все надеялись, что рыночные реформы дадут быстрый и очень мощный эффект, поскольку были в плену прежних представлений о великолепных стартовых возможностях России в виде образованного, квалифицированного и работящего народа, нескончаемых ресурсов и тому подобного. Все ждали, что на Россию прольётся золотой дождь инвестиций, и в считанные месяцы она превратится в настоящее Эльдорадо.
В тот момент за пределами политической реальности была, например, возможность заявить о том, что реформы займут годы, что ситуация ещё долго будет не просто плохой, а будет ухудшаться, что в стране огромное количество ненужных производств, что огромная скрытая и явная безработица и нищета неизбежны и так далее. И хотя это была чистая правда, любой политик, который выступил бы с такими заявлениями, мгновенно потерял бы всякую поддержку народа и элиты. Ожидания у людей были совершенно другими, и Ельцин вынужден был с этим считаться.
Никто точно не знает, осознавал ли Ельцин реальные масштабы тех реформ, которые необходимы России, и те тяготы, которые ей придется пройти на этом пути, и понимал ли он, что всё это займет годы. Возможно, он и сам искренне считал, что к осени 1992 года начнётся постепенное улучшение ситуации.
Но это и не имеет особого значения, поскольку, повторимся, в тот момент все ждали чуда, и любой электоральный политик не мог сообщить россиянам, что чудес не бывает, без риска закончить на этом свою карьеру. Таким образом, у Ельцина, фактически не было выбора, безотносительно того, понимал ли он сам всю грандиозность и сложность стоявших перед страной задач или тоже находился в плену мифа о быстрых и безболезненных реформах.
Егор Гайдар, спустя годы, часто говорил, что он знает только одного политика – Уинстона Черчилля, который в 1940 году, заявив нации, что он «не может обещать ей ничего кроме крови, пота и слёз», получил её поддержку. Все остальные политики в аналогичных обстоятельствах предпочитали давать более оптимистические обещания. Не стал исключением и Ельцин.
Начало суверенного правления президента России стало временем не только весьма радикальных реформ, но и жёсткого противостояния с довольно быстро появившейся оппозицией во власти и в народе, выступавшей не только против реформ, но и против самого Ельцина как президента. И, разумеется, Ельцин вынужден был пожать горькие плоды ответственности и тяжести власти избранного народом вождя.
В целом, в первые два года независимого существования России параллельно шли три необходимых и неизбежных процесса: оформление полноценной государственности, радикальные экономические реформы и набирающий обороты конфликт между президентом и всё более непримиримой оппозицией ему.
Оформление новой российской государственности началось сразу после подавления августовского путча, ещё до окончательного упразднения СССР в Беловежской пуще, и заключалось в постепенном переведении советских властных, силовых, экономических и дипломатических структур на территории России в её подчинение. Но это, разумеется, не решало всех проблем, связанных с распадом Союза и началом независимого существования России, как и других бывших советских республик.
Например, довольно сложно было разделить олимпийскую сборную команду СССР, поэтому на олимпиадах 1992 года в Альбервиле и Барселоне под олимпийским флагом выступала объединённая команда бывших союзных республик (к летним играм в Барселоне Эстония, Латвия и Литва сформировали уже собственные сборные).
На протяжении всего 1992 года новые государства оформляли свой суверенный статус, заключая друг с другом и со всеми другими странами мира договоры о признании и дипломатических отношениях. Россия в этом процессе играла особую роль, заняв с 24 декабря 1991 года место СССР в Совете Безопасности ООН и, в целом, объявив себя преемником СССР во всех международных организациях и договорах.
Характерно, что место в Совете Безопасности ООН было получено Россией без какого-то специального договора, с молчаливого согласия всех остальных его членов.
По свидетельству Юлия Воронцова, который тогда был постоянным представителем сначала СССР, а потом России в Совете Безопасности ООН, формулу подсказали американцы: они предложили, чтобы Ельцин написал письмо генеральному секретарю ООН, в котором объявил бы Россию «продолжателем» СССР. Тут важно заметить, что никто не настаивал на «правопреемнике», оказалось достаточно расплывчатого «продолжателя».
Также, по свидетельству Геннадия Бурбулиса, место в Совбезе ООН досталось России отнюдь не в обмен на принятие на себя внешнего долга СССР (около 140 миллиардов долларов). Эти два вопроса в декабре 1991 года никто на международной арене не связывал.
Таким образом, казалось бы, ставшее уже аксиомой представление о том, что Ельцин взял на Россию внешний долг СССР лишь потому, что иначе бы она лишилась места в Совете Безопасности ООН, на поверку оказывается всего лишь гипотезой, которую ещё предстоит либо доказать, либо опровергнуть.
Это тем более верно, что переговоры между членами СНГ о правопреемстве союзного долга и разделе активов СССР велись вплоть до лета 1992 года, то есть до времени, когда Россия уже полгода как заседала в Совбезе ООН.
Но правда состоит также и в том, что в воображение самого Ельцина эти две вещи были почему-то связаны и, следовательно, ответственность за это решение несут, помимо Ельцина, те люди, кто эту связь ему в голову вложил.
Бурбулис вспоминает, что самым активным сторонником принятия Россией долга СССР был тогдашний председатель Комитета внешнеэкономических связей России (а впоследствии – министр внешнеэкономических связей) Пётр Олегович Авен, который отказ оплачивать долг СССР отчего-то называл «аморальным».
12 декември 2021 г.
Живая книга о Ельцине
Глава 7. Елцин. Реформи, част 1
...
Люди смотрели на окружавшую их жизнь, на нищету, безработицу, на криминальную статистику, анализировали экономические показатели, на своей шкуре чувствовали всю тяжесть кризиса, но при этом как-то считалось, что это всё понарошку, несерьёзно, что резервы нескончаемы и что просто «начальники плохие», а страна – по-прежнему великая и могучая. Нация и ее элита не отрефлексировали своё поражение и не артикулировали его. Напротив, видели себя победителями коммунизма. По умолчанию ситуация оценивалась где-то на промежутке между «досадным недоразумением» и «временными трудностями».
Как-то само собой подразумевалось, что, фактически ополовинив население и территорию, люди по-прежнему живут всё в том же СССР, который просто сменил вывеску. И что страна, как неразменный пятак, ополовинившись, отнюдь не стала меньше и слабее. И если эта ополовиненная страна не в состоянии была удовлетворить их амбиции и запросы, то вовсе не потому, что она стала меньше и слабее, а потому, что «начальники воруют».
А сами начальники, в свою очередь, были убеждены, что этой новой стране за каким-то чёртом нужны были все эти стратегические ядерные подводные лодки и крейсера, ракеты и бомбардировщики, и что без них совсем никак невозможно. Солдаты великой армии умирали с голоду в своих казармах (например, на острове Русский) и зарабатывали на еду проституцией (описан случай, когда солдаты предлагали свои услуги прямо на Красной площади), но никому в голову даже не пришла мысль: а зачем нищей стране нужна такая дорогая армия, обслуживавшая абсолютно бессмысленные амбиции?
И когда для того, чтобы получить место в Совете Безопасности ООН, понадобилось весь внешний долг СССР взвалить на одну Россию, российская власть не задумываясь это сделала, хотя в этот же самый момент оставила без компенсаций собственный народ, у которого прежние власти украли все сбережения.
В стране не оказалось ни одной политической силы, которая предложила хотя бы обсудить целесообразность этого шага, настолько очевидной казалась всем необходимость заседать в Совбезе ООН по сравнению с какими-то вкладами граждан в сберкассах… Разумеется, Ельцин, как всякий великоросс, был апологетом этого мифа. Он с ним вырос, он был для него органичен, другой роли для России он не представлял, а сам себя видел, конечно же, правителем только такой великой и могучей России, которую «все бояться и уважают».
Когда мы в дальнейшем будем обсуждать ход реформ, нужно всё время держать в голове это обстоятельство. Скорее всего, путь к успешной модернизации страны лежал через искреннее осознание народом полной идейной, институциональной и экономической катастрофы прежнего государственного строя. Как это было, например, в послевоенных Японии и Германии.
И задача новой элиты как раз и состояла в том, чтобы открыть народу глаза на реальное положение вещей. Но особенность того периода отечественной истории была в том, что такого осознания не произошло, за редким исключением, даже внутри элиты. И, следовательно, такая картина мира не стала мейнстримом.
Напротив, все надеялись, что рыночные реформы дадут быстрый и очень мощный эффект, поскольку были в плену прежних представлений о великолепных стартовых возможностях России в виде образованного, квалифицированного и работящего народа, нескончаемых ресурсов и тому подобного. Все ждали, что на Россию прольётся золотой дождь инвестиций, и в считанные месяцы она превратится в настоящее Эльдорадо.
В тот момент за пределами политической реальности была, например, возможность заявить о том, что реформы займут годы, что ситуация ещё долго будет не просто плохой, а будет ухудшаться, что в стране огромное количество ненужных производств, что огромная скрытая и явная безработица и нищета неизбежны и так далее. И хотя это была чистая правда, любой политик, который выступил бы с такими заявлениями, мгновенно потерял бы всякую поддержку народа и элиты. Ожидания у людей были совершенно другими, и Ельцин вынужден был с этим считаться.
Никто точно не знает, осознавал ли Ельцин реальные масштабы тех реформ, которые необходимы России, и те тяготы, которые ей придется пройти на этом пути, и понимал ли он, что всё это займет годы. Возможно, он и сам искренне считал, что к осени 1992 года начнётся постепенное улучшение ситуации.
Но это и не имеет особого значения, поскольку, повторимся, в тот момент все ждали чуда, и любой электоральный политик не мог сообщить россиянам, что чудес не бывает, без риска закончить на этом свою карьеру. Таким образом, у Ельцина, фактически не было выбора, безотносительно того, понимал ли он сам всю грандиозность и сложность стоявших перед страной задач или тоже находился в плену мифа о быстрых и безболезненных реформах.
Егор Гайдар, спустя годы, часто говорил, что он знает только одного политика – Уинстона Черчилля, который в 1940 году, заявив нации, что он «не может обещать ей ничего кроме крови, пота и слёз», получил её поддержку. Все остальные политики в аналогичных обстоятельствах предпочитали давать более оптимистические обещания. Не стал исключением и Ельцин.
Начало суверенного правления президента России стало временем не только весьма радикальных реформ, но и жёсткого противостояния с довольно быстро появившейся оппозицией во власти и в народе, выступавшей не только против реформ, но и против самого Ельцина как президента. И, разумеется, Ельцин вынужден был пожать горькие плоды ответственности и тяжести власти избранного народом вождя.
В целом, в первые два года независимого существования России параллельно шли три необходимых и неизбежных процесса: оформление полноценной государственности, радикальные экономические реформы и набирающий обороты конфликт между президентом и всё более непримиримой оппозицией ему.
Оформление новой российской государственности началось сразу после подавления августовского путча, ещё до окончательного упразднения СССР в Беловежской пуще, и заключалось в постепенном переведении советских властных, силовых, экономических и дипломатических структур на территории России в её подчинение. Но это, разумеется, не решало всех проблем, связанных с распадом Союза и началом независимого существования России, как и других бывших советских республик.
Например, довольно сложно было разделить олимпийскую сборную команду СССР, поэтому на олимпиадах 1992 года в Альбервиле и Барселоне под олимпийским флагом выступала объединённая команда бывших союзных республик (к летним играм в Барселоне Эстония, Латвия и Литва сформировали уже собственные сборные).
На протяжении всего 1992 года новые государства оформляли свой суверенный статус, заключая друг с другом и со всеми другими странами мира договоры о признании и дипломатических отношениях. Россия в этом процессе играла особую роль, заняв с 24 декабря 1991 года место СССР в Совете Безопасности ООН и, в целом, объявив себя преемником СССР во всех международных организациях и договорах.
Характерно, что место в Совете Безопасности ООН было получено Россией без какого-то специального договора, с молчаливого согласия всех остальных его членов.
По свидетельству Юлия Воронцова, который тогда был постоянным представителем сначала СССР, а потом России в Совете Безопасности ООН, формулу подсказали американцы: они предложили, чтобы Ельцин написал письмо генеральному секретарю ООН, в котором объявил бы Россию «продолжателем» СССР. Тут важно заметить, что никто не настаивал на «правопреемнике», оказалось достаточно расплывчатого «продолжателя».
Также, по свидетельству Геннадия Бурбулиса, место в Совбезе ООН досталось России отнюдь не в обмен на принятие на себя внешнего долга СССР (около 140 миллиардов долларов). Эти два вопроса в декабре 1991 года никто на международной арене не связывал.
Таким образом, казалось бы, ставшее уже аксиомой представление о том, что Ельцин взял на Россию внешний долг СССР лишь потому, что иначе бы она лишилась места в Совете Безопасности ООН, на поверку оказывается всего лишь гипотезой, которую ещё предстоит либо доказать, либо опровергнуть.
Это тем более верно, что переговоры между членами СНГ о правопреемстве союзного долга и разделе активов СССР велись вплоть до лета 1992 года, то есть до времени, когда Россия уже полгода как заседала в Совбезе ООН.
Но правда состоит также и в том, что в воображение самого Ельцина эти две вещи были почему-то связаны и, следовательно, ответственность за это решение несут, помимо Ельцина, те люди, кто эту связь ему в голову вложил.
Бурбулис вспоминает, что самым активным сторонником принятия Россией долга СССР был тогдашний председатель Комитета внешнеэкономических связей России (а впоследствии – министр внешнеэкономических связей) Пётр Олегович Авен, который отказ оплачивать долг СССР отчего-то называл «аморальным».
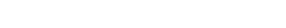



Коментар